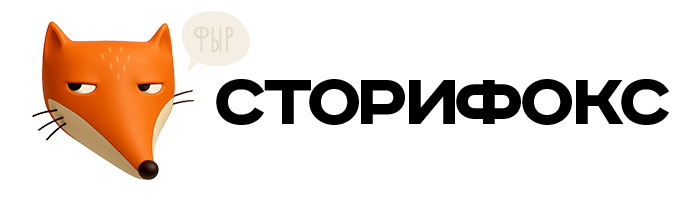Каждое утро на лавочке у подъезда появлялась она — сухонькая, с прямой спиной, в аккуратном берете и лёгкой шальке на плечах. Зинаида Петровна. Соседки почтительно пододвигались, уступая ей уголок. Она вежливо кивала, опираясь на складную трость, и садилась с достоинством, как садятся женщины, знающие себе цену.
— Вон та, в зелёном пальто, видела? Всё-таки сын у неё и в Германию уехал. А моя Маринка вон где… главный архитектор, — сдержанно замечала она, не смотря в глаза.
— А вторая дочка? — осторожно интересовались соседки.
— У Ирины серьёзная должность, ответственный человек. Времени у них нет, всё на ходу… — отвечала Зинаида Петровна с кроткой улыбкой, но голос её дрожал.
Они не знали всей правды. Да и не особенно интересовались. Знали одно: старушка одинока, и дочери — неблагодарные. Сами себе поставили диагноз — и сочувствовали.
Иногда Зинаида Петровна тихонько плакала.
— Бросили одну на старости лет… Совести у них нет.
И снова рассказывала очередную историю из больничной практики, где она спасала младенца от удушья или ставила редкий диагноз «по глазам». Она всё ещё была нужна, хоть и только в воспоминаниях.
— Бросили одну на старости лет! Совести у них нет, — всхлипывала Зинаида Петровна.
Соседки сочувственно качали головами, бросая сердитые взгляды в сторону неведомых дочерей. Все как одна осуждали «жестокость, эгоизм и неблагодарность» её девочек.
Зинаида Петровна, семидесятилетняя женщина с доброй улыбкой и орденами на лацкане, — бывший врач ультразвуковой диагностики, ветеран труда, уважаемая в прошлом фигура районной больницы. За её плечами тысячи спасённых пациентов, десятки историй с благополучным исходом. Люди помнили её ласковые руки и точные слова, хотели попасть именно к ней.
Когда Зинаида Петровна ушла на пенсию, пустота в доме стала особенно ощутимой. Мужа не стало много лет назад, обе дочери жили отдельно, а теперь и вовсе исчезли из поля зрения — не звонили, не навещали.
Выходя во двор, она села на лавочку у подъезда и слушала разговоры соседок. Они наперебой рассказывали о внуках и детях, перебивая друг друга. Ей оставалось только тихо кивать и в памяти перебирать истории из врачебной практики. Тогда глаза её оживали, голос становился бодрее, и соседки слушали с интересом. Иногда она приукрашивала — но не слишком, чтобы не утратить доверие.
Дом, в который её недавно переселили, был девятиэтажным и новым. Сюда приехали люди со всех концов города: кто-то из бараков, кто-то из ветхих пятиэтажек, кто-то с частных участков. Все были незнакомы, все начинали жизнь заново.
Зинаида Петровна радовалась переезду: в прежнем доме давно не было тепла, крыша текла, а стены покрылись плесенью. Несмотря на звания и заслуги, выбить капремонт ей не удалось. Она обивала пороги, строчила письма — всё тщетно. И вдруг — переселение, как подарок свыше.
Дочери — Ирина и Марина — давно жили своими семьями в соседних городах. О новом адресе матери знали, но не торопились появляться.
— Мари, я до сих пор помню, и до сих пор дрожь по коже, — призналась Ирина сестре, когда та приехала на день рождения племянника.
— Да ну его… Даже вспоминать не хочется, — буркнула Марина, закрывая посудомоечную машину.
В другой комнате мужья обсуждали какие-то рабочие дела, дети уткнулись в экран ноутбука, а сёстры убирали со стола.
— Ну вот скажи, как можно быть такой? — вытерев руки полотенцем, Ирина взяла кружки. — Для меня она — живой пример, как нельзя обращаться с ребёнком. Я своего Антона воспитываю иначе. Он мальчик, но я его уважаю. А мы с тобой были тише воды… Послушные, старательные…
Марина сжала губы, помолчала. Она тоже помнила всё — не забылось.
Семья была «приличной»: мать — врач, отец — инженер на оборонном заводе. С виду — образцовая семья. Но дома всем заправляла Зинаида Петровна. Жёсткая, категоричная, холодная. Виктор Аркадьевич, её муж, был мягче: уходил в тень, отмалчивался. После работы запирался в комнате с книгой, притворяясь, что не слышит, как жена отчитывает дочерей.
Девочки были погодками, ходили в один класс. Домашние задания превращались в пытку. Мать проверяла тетради и, обнаружив малейшую помарку, рвала страницу и кидала на пол.
— Две минуты. Если будет ещё клякса — выдеру, как сидорову козу, — чеканила она.
Детские руки дрожали, слёзы капали на бумагу. В семь лет тяжело соответствовать армейской дисциплине.
Мать не била, но угрожала. Так, что сердце сжималось. Её наказания были унизительны: колени на коврик, руки за голову.
— Радуйтесь, что не на горохе, — цедила сквозь зубы. — Позор! Дармоедки!
Это слово — «дармоедки» — прилипло, как клеймо.
— Ничего в этом доме вам не принадлежит. Всё заработано родителями. Вы обязаны учиться на отлично — вот и вся ваша работа!
Отец слышал, но не вмешивался. Говорил потом: «Мать знает, что делает. А то вырастут бездельницы».
Желаний у девочек быть не должно. Только то, что велено.
Летом они решали задачи, тренировали почерк. Даже в туалет спрашивали разрешения.
Конфет в доме было много — пациенты дарили — но девочкам их не давали. «Зубы испортите. Не заслужили». Даже четвёрка в дневнике считалась провалом.
Раз в неделю устраивался обыск: вытряхивались рюкзаки, сбрасывались со стола вещи. А если Зинаиде Петровне казалось, что ребёнок украл конфету, она требовала показать ладони. Руки дрожали, были влажными от ужаса.
Сёстры окончили школу на одни пятёрки. Поступить удалось в местный вуз — мать настояла. Они мечтали уехать, жить в общежитии, дышать свободно — но нет. Под контролем.
Страх Зинаиды Петровны перед возможной беременностью дочерей стал паранойей. Любой выход в свет контролировался. Встречаться с парнями запрещалось. Но учёба шла хорошо. Красные дипломы. Работа. Замуж.
И — переезд.
— Она даже на похоронах отца сцену закатила, — вспомнила Марина. — Мы только цветы положили, как она заорала: «Ничего тут не ваше! Всё — моё! Руки прочь!»
— Люди смотрели, я чуть сквозь землю не провалилась, — кивнула Ирина. — Я ещё пыталась ей звонить. Потом поняла — всё так же. Грубость, упрёки. Не могу. Не хочу.
— А я и не пыталась, — честно призналась Марина. — Как представлю, как она кричала, когда я в тетради чернила пролила… Помнишь, как меня вырвало от страха на её белую блузку?
— Помню… — тихо ответила Ирина. — Но, знаешь… Это же всё равно наша мать. Иногда думаю: не живётся с таким грузом легко. Надо как-то это отпустить.
— Я отпустила, — вздохнула Марина. — Только места в сердце для неё больше нет. Выжгла всё подчистую.
Соседки жалели Зинаиду Петровну — добрую пожилую женщину, оставленную дочерьми. Слушали её рассказы, приносили угощения. А она недоумевала — за что? Почему они её избегают? Разве мало она сделала для них?..
И становилось ей ещё тише, ещё холоднее.
Весной, в один из особенно тёплых дней, Зинаида Петровна снова вышла во двор. Села на лавочку. В руке у неё был небольшой бумажный пакет — принесла соседке яблок. Та только вернулась из больницы.
— Надо же делиться, — тихо сказала Зинаида Петровна. — Я сама когда-то… лечила, помогала. Люди тянулись ко мне.
Она оглянулась — двор жил своей жизнью: дети катались на самокатах, кто-то развешивал бельё на балконе. Молодая женщина, проходя мимо, остановилась.
— Извините, — сказала она. — Вы Зинаида Петровна?
— Да, — кивнула та с удивлением.
— Вы когда-то вели моего сына, кажется, в шестнадцатой поликлинике. Мы вам до сих пор благодарны. Он теперь в медицину пошёл, на вас равнялся…
Глаза Зинаиды Петровны наполнились влагой. Она кивала, прижимая пальцы к губам.
— Спасибо вам. Это много значит…
Когда женщина ушла, Зинаида Петровна осталась сидеть в одиночестве. Ветер мягко колыхал подол её пальто, в небе медленно проплывали белые облака.
«Значит, не зря, — подумала она. — Хоть кто-то помнит».
А где-то в другом городе Ирина смотрела на старую фотографию — мама в халате и с указкой у больничного экрана. Рядом в кадре — она, пятилетняя, с испуганными глазами.
Марина складывала детские тетради в коробку. В одной — аккуратный почерк, в другой — неровные буквы, исписанные со слезами.
Никто не знал, что именно их воспоминания — настоящая история Зинаиды Петровны. Не благодарственные письма. Не ордена. Не соседская молва. А то, что осталось в сердце детей — навсегда. Их последнее слово.