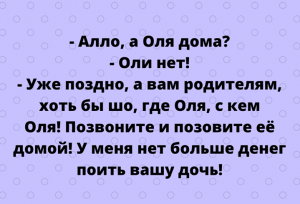Кабинет кардиохирурга на седьмом этаже пах антисептиком и безнадёжностью. Воздух был тяжёлый, словно кто-то невидимый давил на грудь. Я сидела напротив доктора — Громов, лет пятьдесят, серое лицо, усталые глаза, голос, от которого хотелось упасть на пол и исчезнуть.
— Анна Сергеевна, — он сложил руки на столе, — у вашего отца ишемическая болезнь сердца в тяжёлой форме. Срочно нужно делать шунтирование. Очень срочно. Я подозреваю, он терпел давно — типично мужская стойкость…
Папа сидел рядом. Сжал мою ладонь — мозолистую, тёплую. Ту самую, которой когда-то подбрасывал меня на руках и чинил наш старый велосипед. А теперь не мог починить собственное сердце.
— Сколько у него осталось? — едва выговорила я.
— Без операции — четыре, максимум пять месяцев. С каждым днём риск растёт.
Я кивнула. Горло сжалось.
— По ОМС?
— Полтора года в очереди. Частная клиника — от восьмисот тысяч.
— Восьмисот… — эхом повторила я, и в голове что-то звякнуло. Как замок.
— Не надо, доченька, — хрипло сказал папа. — Не вытягивай. Я пожил. Всё уже…
— Замолчи, — прошептала я. — Пожалуйста. Только не говори сейчас этого.
Три месяца я жила на пределе. Уроки, шабашки, вечерние занятия. Вела учёт в тетради, искала акции на лекарства, искала любые возможности. Мы собрали почти 480 тысяч.
Игорь, мой муж, молчал. Он смотрел в тетрадь, как в зеркало. И там, кажется, видел не себя, а собственную несостоятельность. Его злость была тихой, вязкой — как простуженный крик.
А потом он исчез.
Без звонка, без записки. Исчез на два дня.
Когда вернулся — посвежевший, с лёгкой улыбкой, от него пахло жареным мясом и дорогим мылом. В руках пакет с новыми тапками.
— Где ты был? — спросила я, не отрываясь от таблицы.
— У мамы. Помогал. Мы купили ей новый гарнитур… красивый, современный. Всё поставили.
Я подняла взгляд.
— Купили? На что?
Он отвёл глаза. Мне больше ничего не нужно было.
Я медленно подошла к тумбочке. Открыла верхний ящик.
Пусто.
— Нет… — выдохнула я. — Скажи, что не брал. Скажи. Соври, но скажи.
— Ань, пойми… Мамина квартира… Она одна. Там всё разваливается. Я не мог иначе…
— А я могу?! — сорвалось. — Могу смотреть, как отец умирает? Ты украл у нас надежду. Ради шкафа и плитки?
Он отпрянул, как будто я его ударила.
— Ты не понимаешь, что значит забота о матери…
— А ты не понимаешь, что значит быть человеком. Я думала, ты рядом. А ты — предатель.
На следующее утро я пошла в банк. Открыла отдельный счёт. Новый пароль. Новый доступ. Старые иллюзии — в мусор.
Вечером молча собрала его вещи. Одежду, ноутбук, даже старую кружку с надписью «Лучший муж». Поставила всё у двери.
Он стучал, кричал, потом умолял:
— Аня, я был дурак! Я просто… не справился. Прости! Мы же семья!
— Семья — это когда держат друг друга за руку у кабинета врача. А не когда забирают деньги со дна чужой боли.
Через месяц мы с папой поехали в клинику. Я взяла кредит. Друзья помогли. Даже одна студентка с курсов бухгалтерии прислала две тысячи и написала: «Вы сильная. У вас получится».
Операция прошла. Папа долго приходил в себя, но уже на второй неделе попросил… газетку. Я читала ему вслух. Он ел домашний суп. И снова улыбался — как тогда, на даче, с мухами, солнцем и компотом из смородины.
А Игорь?
Он писал.
Сначала осторожно. Потом настойчиво.
«Я всё осознал. Дай шанс. Мы можем начать сначала…»
Но мне не нужно было начало.
Мне нужно было спокойствие. И честность.
Теперь, спустя год, я смотрю на ту сцену — как на старое кино. Я снова в профессии, читаю лекции, чиню чужие финансы. И самое главное — я жива. Я дышу.
А папа? Папа вчера сварил мне борщ. И сказал:
— Вот видишь, дочка. Сердце — штука упрямая. Особенно, если за него борются.
Если тебе нужен второй эпизод, например, о том, как они с папой живут дальше или вдруг появляется свекровь, требующая «вернуть сына», — я с радостью продолжу.