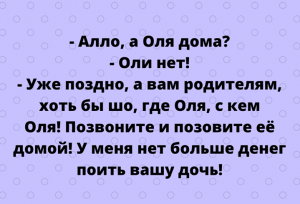— Ну что ж ты, старая, не поднимаешься? Пора уж бы тебе… — тревожно, с лёгким посвистом в речи, приговаривала тётка Агата, всё поглядывая на окошко, затянутое морозными узорами.
Печь она разожгла ещё на заре, и теперь только из её трубы поднималась к небу тонкая дымная полоска. По всей деревне тишина стояла такая, что казалось — сам воздух замёрз и стал хрупким, словно стекло. На подоконнике, между горшков с фиалками, грелся кот Кузьма. Он прикрыл глаза и подставлял тяжёлую голову с крошечными ушами под шершавую ладонь хозяйки.
— Урчишь, как всегда? Ларису не встречал нынче? — пробормотала Агата. — Эх… пользы от тебя никакой.
Они с тёткой Ларисой жили рядом больше шестидесяти лет. Когда-то улица их звенела детскими голосами, шумом коровьих колокольцев, мужскими песнями по вечерам. Теперь же всё стихло. Деревня вымерла, и остались в ней лишь две старухи, связанные странной ниточкой: дружба с пелёнок, а потом ссора на всю жизнь.
Причину помнили только те, кто давно уже лежал на кладбище. Молодёжь разъехалась: кто в города, кто в районные центры. Стариков забирали к детям, но не всех. Агату звали — и сын, и дочь упрашивали: «Поехали, мамка, что ты здесь забыла?». А она упрямо отвечала: «Здесь я родилась, здесь и помру».
И ещё не вслух добавляла: «А как я Ларису оставлю? Кто её будет навещать?»
Год за годом окна забивали досками, дома проваливались в землю. Двери болтались на ржавых петлях. На улицах шуршал только сор, а весной — мутные ручьи сбегали меж покосившихся заборов. Иногда в пустые избы заглядывали охотники за старьём, выносили иконы, самовары, вышитые рушники.
Внуки Агаты приезжали раз в две недели. Продукты привозили, ругали бабку за упрямство. Летом приезжали прямо во двор, а зимой машины бросали за четыре километра, шли пешком по сугробам. Злились: «Ты издеваешься над собой и над нами!». Но старуха оставалась непоколебима.
Последние два года они с Ларисой жили как два маяка, подававшие друг другу знаки: летом вывешивали белые тряпки на забор, а зимой — дым из трубы. Пока в небо поднималась серая струйка, можно было не тревожиться.
Но в то утро Агата увидела — труба у соседки пустая. Сердце кольнуло, но гордость удерживала: «Не пойду! Сама явится, коли надо». Она то садилась за стол, проводя пальцем по облезлой клеёнке, то снова вставала, глядела в окно. И вот лишь к десяти часам появился дымок. Агата облегчённо вздохнула.
В одиннадцать пришла почтальонша.
— У Ларисы вашей беда. Слаба, лежит, стонет. Я ей печь растопила, суп сварила, но не знаю — выкарабкается ли. Вам бы проведать.
Агата насупилась:
— Мы с ней не разговариваем с тех пор, как поссорились.
— Да что вы! — всплеснула руками женщина. — Разве есть вина, из-за которой всю жизнь друг на друга сердиться? Мириться пора.
Агата молча отвернулась. Но слова застряли в сердце.
На следующий день она с раннего утра глядела в окно. Нет дыма. Нет. И снова нет. К полудню Агата не выдержала. Казалось, будто ржавая дверь внутри души скрипнула и поддалась. Она налила в баночку щей, укутала пуховым платком и отправилась по глубокому снегу к соседке.
Крыльцо было засыпано нетронутым снегом. Никто сюда не заходил. Агата постучала. Тишина. Только кот мяукнул изнутри и заскрёб когтями.
— Лариса! Это я, Агата! Откроешь или нет? Уйду ведь! — голос её дрожал.
Ответом был кашель. Агата толкнула дверь — та оказалась незапертой. В сенях пахло сыростью и холодом. Кот бросился к её ногам, вился, просил еды.
На кровати, возле побеленной печи, лежала Лариса. Лицо серое, глаза воспалённые, волосы спутаны. Она казалась тенью самой себя.
— Тебя знобит? — спросила Агата, подходя.
— Ноги… одеревенели, — еле прошептала та.
Агата накрыла её одеялом, растопила печь, поставила чайник, принесла баночку супа.
— Рот открывай, буду кормить, — строго сказала она.
Лариса жевала медленно, с трудом. Остатки Агата отдала коту. Потом заварила чай с малиной, разбавила, чтобы не обожглась.
Силы немного вернулись. Они заговорили. Сначала — про шрам на руке, полученный в юности, про платье, из которого Лариса тогда сделала повязку. Потом смеялись, вспоминая недостойного жениха и золотого мужа.
И вдруг Лариса заплакала:
— Агата… прости меня за то, что дочку твою… потеряла я. Вероничку.
Агата замахала руками:
— Будет тебе, что старое бередить!
— Нет… не прощу себе. На минуту отвернулась… а потом… — голос её сорвался. — Мне в аду за это гореть…
— Случайность всё это, — шепнула Агата, но глаза её наполнились слезами. — Виновата та пьяная медсестра, не ты.
— Но ведь я… я не уберегла, — упрямо повторяла Лариса.
Они плакали обе. Плакали, обнимались, и вместе с солёными слезами уходили десятки лет обид.
Вечером Агата осталась с соседкой: дров подбросила, чаю приготовила. Сидела рядом, слушала её прерывистое дыхание.
— Иди домой, Агата, — прошептала Лариса. — А то сама свалишься. Я уж полегче себя чувствую.
— Завтра с утра приду, — сказала Агата. — Спокойной ночи, Ларисонька.
— Спокойной ночи, Агафья.
Они улыбнулись друг другу. Впервые за шестьдесят лет — по-настоящему.
Ночью Лариса лежала, глядя в потолок, и вспоминала, как они когда-то вместе бегали по лугам, смеялись, делились секретами. Она впервые за долгие годы чувствовала лёгкость: прощение было получено. Сердце её успокоилось.
А утром Агата поспешила к соседке. Но поздно: Лариса тихо ушла в иной мир. На лице её застыла слабая, почти детская улыбка.
Агата долго стояла рядом, держала холодную руку. И шептала:
— Прощаю тебя, милая… прощаю.