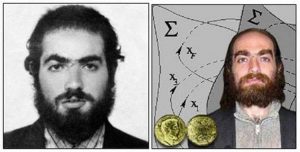Её жизнь до этого момента можно было бы назвать спокойной, если бы не одно «но». Виктория всегда любила свою роль — жены и матери, создавая уют в доме, заботясь о сыне, поддерживая мужа. Но этого было мало. Жизнь с Владимиром, на первый взгляд, была обыденной и стабильной, но маленькие, едва заметные трещины начали появляться в их отношениях ещё до того, как она поняла, что перемены неминуемы.
Голос тещи в коридоре — это было не просто раздражение. Это было как осознание того, что она больше не принадлежала себе. Елена Викторовна была всегда рядом — на кухне, в ванной, в коридоре, и её мнения для Владимира имели больше веса, чем Викторины собственные чувства и желания. Каждое её слово, каждое вмешательство — словно удар по крепостной стене, которую Виктория пыталась возвести вокруг своей жизни.
Всё началось с мелочей. Обычные семейные ужины, где однажды она заметила, как мать Владимира почти незаметно, но уверенно отодвигает её место за столом, словно не существуя для этой семьи. Сначала это было не так заметно. Потом каждое её вмешательство становилось всё более очевидным. Как-то вечером, когда в очередной раз свекровь придрала её кулинарным умениям, Виктория почувствовала, как невидимая стена, выстраиваемая годами, начала рушиться.
И вот, однажды, когда она подумала, что уже привыкла к жизни под взглядом тещи, случилось нечто, что стало последней каплей.
____
— Опять ты его в синтетику нарядила! — прогремел голос Елены Викторовны из коридора, заставив Викторию вздрогнуть. — У ребенка вся спина мокрая будет! Ты мать или змей?!
Этот голос. Виктория слышала его даже во сне. Он преследовал её уже год — ровно столько, сколько они с мужем Владимиром и пятилетним сыном Мишей жили у его матери. И этот год стал бесконечной пыткой, где каждый её шаг подвергался жесточайшей критике.
— Суп пересолила! Хочешь ребенку почки в его пять лет посадить?!
— Почему он не спит днем? Это ты его своими мультиками сон отбила! Режима в доме нет!
Виктория пыталась говорить с мужем.
— Вова, ну попроси маму не лезть… Я же сама знаю, что лучше для нашего сына.
Владимир лишь устало отмахивался, не отрываясь от телефона.
— Вика, ну не начинай. Мама же из лучших побуждений. Она же Мишку любит, внука единственного.
Эта удушающая любовь была страшнее ненависти. Елена Викторовна постоянно подрывала авторитет Виктории в глазах ребенка.
— Мама не знает, иди к бабушке, — говорила она Мишке, протягивая ему конфету за спиной у Виктории. — Бабушка лучше знает, как надо.
Точкой кипения, после которой в душе Виктории остался лишь холодный пепел, стала обычная тарелка куриной лапши. Миша обожал мамин супчик, легкий, с домашней лапшой и зеленью. Он с аппетитом уплетал его за обе щеки, смешно причмокивая.
В этот момент на кухню, как грозовая туча, вплыла Елена Викторовна.
Она смерила тарелку внука презрительным взглядом.
— Что это за отрава? — прошипела она. — Пустая вода с макаронами! Мальчику нужно мясо, сила! Как он расти будет на этой твоей баланде?
Не дожидаясь ответа, она сделала то, от чего у Виктории перехватило дыхание. Она выхватила тарелку из-под носа у ошарашенного Миши и с грохотом вылила её содержимое в раковину.
— Я сейчас ему нормальной еды дам! — властно заявила свекровь, доставая из холодильника вчерашний жирный гуляш.
Виктория застыла. Кулаки непроизвольно сжались до боли в костяшках. Внутри всё похолодело от бессильной, унизительной ярости. Она посмотрела на испуганное, готовое расплакаться лицо сына, на его дрожащие губы.
Но она промолчала. Снова. Ради мира в доме. Ради мужа. Ради глупой надежды, что однажды это закончится. Она просто молча убрала со стола, чувствуя себя раздавленной.
Все рухнуло в один страшный вечер. Миша заболел. Температура подскочила до 38,6. Ребенок горел, его маленькое тельце сотрясала дрожь, он тяжело дышал и канючил. Виктория немедленно вызвала участкового врача. Врач, строгая пожилая женщина, осмотрела ребенка, прописала антибиотики и жаропонижающий сироп, строго-настрого запретив любые «народные эксперименты».
Но у Елены Викторовны был свой план лечения.
— Никакой химии в моем доме! — отрезала она, увидев в руках у Виктории шприц с прописанной микстурой. — Одно лечат, другое калечат! Мы его сейчас старыми, проверенными средствами на ноги поставим!
Виктория с ужасом смотрела, как свекровь решительно направилась к серванту, достала из его недр начатую бутылку водки и начала наливать пахучую жидкость в граненый стакан.
— Ты… ты что делать собралась?! — прошептала Виктория, холодея от страшной догадки.
— Растирать его буду! И компресс на лоб сделаю! — уверенно заявила свекровь. — Меня так моя мать лечила, и бабка моя, и ничего, выросли здоровыми! А от твоих таблеток только язва у ребенка будет!
Миша, услышав резкий тон бабушки и почувствовав напряжение, заплакал. Виктория инстинктивно шагнула вперед, загораживая собой кровать сына.
— Я не позволю. Врач прописал лекарство, и я его дам.
— Ах, ты мне еще указывать будешь?! Соплячка! В моем доме?! — взвизгнула Елена Викторовна, её лицо исказилось от злобы. — Я лучше знаю, как лечить МОЕГО внука! А ну, отойди!
Она попыталась грубо оттолкнуть Викторию от кровати.
В этот момент внутри Виктории что-то взорвалось. Весь накопившийся страх за сына, вся усталость от ежедневных унижений, вся глухая ненависть к этой женщине слились в один огненный, испепеляющий ком. Животный, первобытный инстинкт матери защитить своего детеныша затопил разум. Кровь ударила в виски.
— УБЕРИ ОТ НЕГО СВОИ РУКИ!
Голос, сорвавшийся с её губ, был чужим, диким, полным такой первобытной ярости, что даже Елена Викторовна на секунду испуганно отступила.
Пользуясь минутным замешательством тещи, Виктория схватила телефон и дрожащими пальцами набрала мужа.
— Вова, приезжай. Срочно!
Потом она повернулась к застывшей Елене Викторовне. Взгляд её был холодным и острым, как лезвие ножа.
— Еще раз подойдете к моему сыну со своей водкой, я вызову полицию и опеку. Вы меня поняли?
Через полчаса, бросив все дела, примчался Владимир. Как только он зашел домой, мать картинно бросилась к нему на грудь и зарыдала.
— Сыночек, она… она на меня набросилась! Обозвала! Я же просто помочь хотела, по-бабушкиному, а она…
Владимир посмотрел на жену с укором и усталостью.
— Вика, ну что ты опять устроила? Неужели нельзя было спокойно? Мама же помочь хотела…
Это было последней каплей. Виктория спокойно, не обращая на них внимания, дала сыну лекарство. Дождалась, когда он, измученный, начнет засыпать, а потом вышла в коридор, плотно прикрыв дверь.
— Ты прав, Вова. Твоя мама хотела помочь. А я хочу своего ребенка вылечить. Поэтому сейчас ты выбираешь: или мы с Мишей уезжаем отсюда навсегда, прямо сейчас. Или ты идешь и говоришь своей матери, что в этой комнате и в жизни нашего сына хозяйка — я. И мое слово — закон.
Владимир замялся. Его взгляд метался от плачущей матери к жене с каменным лицом.
— Ну, Вика… ну как я ей такое скажу… это же мама… она обидится…
— Я тебя поняла, — тихо ответила Виктория. В её голосе не было ни обиды, ни злости. Только ледяная констатация.
Она молча прошла обратно в комнату. Открыла шкаф и достала большую дорожную сумку. Быстро, но без единого лишнего движения, она начала бросать в нее детские вещи, свои, документы, аптечку.
Владимир и Елена Викторовна молча наблюдали за ней из дверного проема. Они, кажется, до последнего не верили, что это происходит наяву.
Виктория аккуратно одела спящего сына, завернула его в теплое одеяло и взяла на руки. В другой руке у неё была тяжелая сумка. Она прошла мимо них, даже не повернув головы.
— Ты куда?! Вика! Ночь на дворе! С больным ребенком! — крикнула ей в спину Елена Викторовна, в её голосе смешались страх и гнев.
Виктория остановилась у самой входной двери. Она не обернулась.
— Туда, где мой ребенок будет в безопасности. От вас.
Она вышла, и тяжелая металлическая дверь за ней тихо щелкнула. Этот щелчок прозвучал как выстрел, навсегда разделивший её жизнь на «до» и «после».
Эпилог
Поначалу Виктория с сыном нашла приют у старой подруги, и только пожив у неё какое-то время, уехала к своей матери в соседний городок. Первые месяцы было невыносимо тяжело, но она наконец-то за долгое время дышала свободно. Миша быстро поправился, стал заметно бодрее и веселее. Владимир звонил, умолял вернуться, клялся, что «поговорит с мамой».